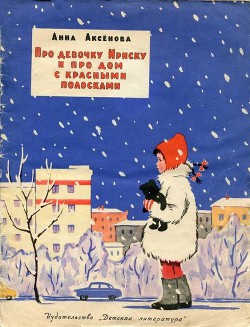городе учить буду. Когда захочет — к вам поедет, захотите — вы приезжайте. Сами знаете, в городе ему лучше будет.
Клавдия оторопела:
— Чегой-то не пойму, всерьез вы или как?
— Всерьез. Чего тут такого. Многие так делают, — сказала Ирена, хотя ни одного такого случая не знала.
— Нет, — без раздумья, сразу ответила Клавдия. — Не отдам. Трудно тогда было, вот и приезжала просить, а сейчас чего же: вырос, никаких забот с ним не знаем. Да и душа прикипела — до чего хороший парнишка. За ним куры, овечка, поросенок. И Любка на него деньги шлет, небольшие, а все же деньги. Сама замуж вышла, не до него ей, а деньги шлет, не забывает.
— Так я бы ее деньги не брала, вам бы оставались. Я сама все буду покупать — и одежду, и учебники. Кормить буду, что себе — то и ему. В театр будет ходить, в кино. К нам иногда из области цирк приезжает.
— Куда ему, — перебила ее Клавдия. — Он деревенский, колхозник, что ему ваш цирк.
Она сказала это с таким достоинством, с таким пренебрежением к городу с его театрами и цирком, что Ирена поняла — все, говорить больше не о чем.
— Не в цирке, конечно, дело, не в развлечениях, — попыталась она что-то еще исправить, — ему учиться надо, может врачом станет, сюда же и приедет.
— В Никольском тоже десятилетка есть, выучится, будет охота, — твердо сказала Клавдия.
Она встала, принялась заниматься по хозяйству, и это было до странности похоже на окончание приема. Словно она была значительным лицом, а Ирена просительницей. Ирена попыталась, чтобы все-таки был ее верх и, будто не замечая, что Клавдия уже с большим горшком пойла для скота пошла к порогу, непринужденно, в то же время чуть не до крови прокусывая себе изнутри щеку, продолжала разговор:
— Я вас не тороплю с ответом, дело серьезное. Но имейте в виду, что я с удовольствием вас выручу, если будет трудно.
— А чего уж так? — с любопытством спросила Клавдия. — Своих нет?
— Нет. Но не в этом дело.
— Да, — сказала Клавдия. — Это плохо. Когда много их — плохо, а когда совсем нет — и того хуже.
Ирена уехала ни с чем.
Она-то думала, обрадуются ей, охов да ахов будет без конца, ручки кинутся целовать. А ей — на порог. Вообще-то глупая эта Клавдия: не сумела своей пользы понять.
Теперь она жила только одним — ожиданием старости. Кто это выдумал, что это самое страшное — старость? Какие глупости. Как раз это самое удобное время жизни. В старости не надо напрягаться, беспокоиться о том, что скажут люди. Старости все прощается, потому что у старости нет сил, и это всем понятно. У Ирены вот нет сил, но кто поймет ее? Приходится через силу жить, через силу двигаться.
Как-то она полезла в подпол, чтобы ссыпать туда картошку, что привезла ей ее давняя «снабженка» из ближайшей деревни. В подполе она почему-то вспомнила о браслете. Достала его, вытащила наверх.
Она с холодным любопытством рассматривала браслет: что в нем такого? Кусок желтого металла округлой формы. Обруч с колеса тоже округлый. Почему она тогда пожалела его? Сейчас она могла бы спокойно выбросить его в отхожее место, и рука бы не дрогнула… Зачем он ей? Носить? Ирена даже засмеялась, так нелепа была эта мысль. Продать? Кому? Да и зачем ей деньги? Продолжать хранить? А для кого? Так и погибнет под обломками рухнувшего в свое время дома.
Она положила браслет в ящик посудного стола, где лежали вилки и ножи: пусть пока лежит. А потом забыла о нем. Иногда он попадался под руку, и она не задумываясь — что это? — отодвигала браслет, перекладывала, как перекладывают старые крышки от банок, пробки, валяющиеся в столе.
Хорошо бы заболеть, думала Ирена, попасть в больницу. Там можно лежать неподвижно целые дни. Но — увы — она была здорова. Лечь дома и лежать? Одной лежать дома было страшно.
Однажды Ирена вдруг почувствовала боль. Остро кольнуло в пальце. Она очнулась и увидела, что сидит и подшивает тонкой проволокой подошву на туфле. Что это она? Когда же это она принялась за починку? Зачем? Почему не снесла в мастерскую?
Она выдавливала кровь из ранки, сосала солоноватый палец, а сама оглядывалась вокруг, будто попала в чужой, незнакомый дом.
Ватные хлопья пыли под столом, под диваном. На комоде и зеркале тоже плотный серый слой. Кадка с засохшим олеандром. Мутные стекла окон. И она сама в обтрепанном халате, подпоясанная бечевкой, с туфлей в руке сидит на брошенном на бок табурете. Что с ней? Может быть, она и вправду больна? Она давно уже боится, чтобы кто-нибудь не зашел к ней. Вечерами сидит тихо и неслышно, чтобы, если кто-то вдруг вздумает зайти, не открывать, как будто никого нет дома.
Она подошла к зеркалу, протерла его рукой, взглянула на себя. Белое, бескровное лицо, белые волосы. Наверное, скоро конец, подумала Ирена. И тут же почувствовала, как где-то глубоко внутри у нее затосковало. Душа? Так ведь нет же души.
Шел проливной дождь. Ирена встала с утра с намерением сделать то, что давным-давно пора было сделать: перебрать в шкафу и выбросить все лишнее. В доме полно моли, и в шкафу, наверное, осталась одна труха. Она не помнит, когда посыпала там махоркой, когда вывешивала вещи на солнышко. Брала, что висело поближе, и неделями носила одно и то же.
Она поснимала с вешалок все прямо на пол и села тут же просматривать тряпье на свет.
Взяла зеленое клетчатое платье. Его она шила специально к Жениному выпуску. Как дико, что ненужная тряпка, платье — вот оно, здесь, а Жени нет. Какой он был смешной тогда в черном новом костюме, в галстуке, старался казаться взрослым, чуточку басил, а сам был весь потный, красный. Злился, что Ирена следит за ним. А она знала, что мальчишки спрятали где-то бутылку вина, и боялась, чтобы Женя тоже не выпил. Как он тогда ей сказал, он даже заикался от возмущения: «Что ты ходишь за мной, ка-ак будто я маленький». Она еще прикрикнула на него. А на другое утро началась война. А через месяц он ушел на фронт.
Ирена платьем вытерла мокрое лицо. В зеркальной дверце шкафа увидела себя среди пестрого вороха, похожую на большую, нахохлившуюся птицу на этой свалке воспоминаний.
Ирена поднялась, едва разогнувшись от боли в пояснице, захватила, сколько могла, тряпья и
![Долгая дорога домой [1983, худож. Э. П. Соловьева] - Анна Сергеевна Аксёнова](https://cdn.my-library.info/books/379262/379262.jpg)